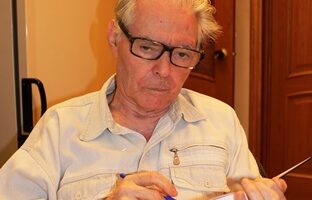“Алеф”, международный еврейский журнал. №5, 2014 г.
С Феликсом Борисовичем Березиным, крупным ученым, психиатром, меня заочно познакомил знаменитый ветеран Великой Отечественной, врач-ортопед Ион Лазаревич Деген: он с огромным теплом отзывался о своем давнем друге и коллеге. Осенью 2014 года, на выступлении Дегена в московском Еврейском музее и Центре толерантности, наконец, выпал шанс встретиться с Березиным лично. Мы некоторое время переписывались, мне очень захотелось побеседовать с этим неординарным человеком, расспросить о перипетиях его непростой жизни.
Несмотря на почтенный возраст, Феликс Борисович активно работает. Сравнительно недавно, в декабре 2011 года, вышла его монография, которую, несмотря на наличие двух соавторов, он заканчивал в одиночку. Оба его соавтора, Майк Петрович Мирошников и жена Феликса Борисовича Елена Дмитриевна Соколова, ушли из жизни в 2004 году.
Значение этой книги ясно из последних строк предисловия научного редактора Татьяны Барлас: «Книга «Методика многостороннего исследования личности» дарит нам возможность соприкоснуться с делами и мыслями поколения, создавшего сегодняшнюю психологию. Поколения, которое уходит. Или уже ушло и никогда не вернется…»
Сейчас Феликс Борисович активно ведет свой сайт и готовит заявку на получение гранта для продолжения работы на тему «Генетические, психофизиологические и психологические предпосылки возникновения суицидальных тенденций».
На долю Березина выпало немало испытаний, но именно начальный период жизни, когда формировался и закалялся его характер, он считает одним из главных, предопределивших дальнейшее направление его судьбы.
– Феликс Борисович, из какой Вы семьи? Кем были Ваши родители?
– Мои родители Нехама Хащанская (партийный псевдоним – Базарова) и Борис Кренцель (Березин) были настоящими революционерами, беззаветно мечтали о жизни без национальной дискриминации под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»! Причём, если отец был потомственным революционером во втором поколении, то мать происходила из религиозной еврейской семьи, её папа был старостой синагоги. Они оба говорили на идиш, но меня языку и традициям не учили. Традиционные праздники я наблюдал только в доме своего деда, маминого отца.
Сразу после падения царского режима родители – отец, начинающий слесарь, и мать, молодая ткачиха, стали инициаторами создания юношеской большевистской организации, в которую входили такие известные личности, как М.С.Голодный и М.А.Светлов. Позднее мама стала секретарём райкома комсомола.
После окончания гражданской войны родители уехали в Москву, чтобы получить высшее образование. Они самостоятельно подготовились и сдали вступительные экзамены: отец – в Институт красной профессуры (ИКП), мать – в военно-химическую академию. Оба были членами Коминтерна. Мы с сестрой Линой (впоследствии Энгелиной Борисовной Тареевой) находились в Звенигороде под присмотром няни, родители навещали нас по выходным. Страна жила по шестидневке, и каждый шестой день отмечался в календаре фиолетовой цифрой. Мы знали, что мама с папой очень заняты – им нужно готовить мировую революцию, поэтому к их отсутствию относились спокойно. В день, когда они приезжали, у нас всегда собирались гости: деятели коммунистического движения СССР, зарубежные коммунисты, и я, не понимая многого, все же заворожено следил за их беседой.
Мальчиком я очень любил ходить за пионерскими отрядами в Звенигороде, где находилась дача ИКП, на которой мы жили. До начала 30-х годов пионерские отряды создавались не при школах, а при предприятиях, и действовали под руководством комсомольских организаций этих предприятий. Пионеры играли в военные игры, у костра пели: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих». Тогда это можно было понимать буквально, и всё это меня необычайно вдохновляло.
В 1933 году отца (тогда преподавателя ИКП) внезапно направили начальником политотдела машинно-тракторной станции (МТС) в деревню на Украине, а мать – в Дзержинск на военно-химический завод. Эта разлука казалась нам с сестрой вполне естественной, мы ведь с детства слышали песню «Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону». Мы, дети, поехали с отцом и няней, поскольку матери предстояло жить в общежитии.
В июле 1933 г, когда мы прибыли в большую украинскую деревню Дергачи, голод был уже на исходе. Но положение оставалось довольно сложным, потому что я слышал, как мой отец говорил о необходимости продовольственной помощи району, в котором мы жили.
Отец был для меня непререкаемым авторитетом, я гордился тем, что будущее страны важнее для него, чем личная судьба. Он получал паёк, голода мы не знали. А местные крестьянские дети между тем часто ели подсолнечный жмых – макуху, который рассматривали и как лакомство. Мы с сестрой с удовольствием меняли на нее всегда подмокшие конфеты-подушечки из отцовского пайка. Нам макуха казалась необычайно вкусной.
В 1935 году первый секретарь ЦК КП (б) У Станислав Викентьевич Косиор, давно знавший отца, вызвал его на работу в Киев, поручив ему руководство отделом политической экономии Украинской ассоциации марксистско-ленинских институтов. Мать поехала с нами и стала аспиранткой кафедры химии Киевского университета. Семья воссоединилась, но, как выяснилось, ненадолго. В Киеве я начал учиться в школе, легко освоил украинский язык, стал участвовать в художественной самодеятельности.

– Почему Вашего отца, известного большевика и члена Коминтерна, арестовали как врага народа?
– Сначала его отстранили от работы в Украинской ассоциации марксистско-ленинских институтов, а 4 апреля 1937 года – арестовали. Аресту предшествовал ночной обыск. Судьбу людей, которых Сталин знал лично, он решал сам. Вначале мы думали, что отец был арестован как близкий сотрудник Косиора. Сталин, ликвидируя выдающихся деятелей партии, никогда не оставлял в живых или, по крайней мере, на свободе их соратников. Но последующее знакомство с документами позволило мне восстановить хронику событий. В 1933 году на пленуме МК ВКП(б), который вел Сталин, мой отец заявил: «Если товарищ Сталин и дальше будет так проводить партийные форумы, мы можем позабыть о демократии». Сразу после этого последовало отстранение отца от преподавательской работы в ИКП, обоснованное необходимостью направлять сильных работников в политотделы создающихся машино-тракторных станций. Когда Косиор пригласил моего отца работать в УАМЛИН (Украинскую ассоциацию марксистско-ленинских институтов), Сталин не возражал против этого, поскольку уже тогда, вероятно, планировал уничтожение и самого Косиора.
После ареста, который был обоснован двумя письмами в центральные органы, в которых отец обвинялся в троцкистской пропаганде, отца допрашивали только один раз. Он легко отвел эти обвинения просто потому, что он не был в местах, где ему инкриминировалась троцкистская пропаганда, в указанные в доносах сроки. После этого допросов не было, но военная коллегия Верховного суда СССР добавила к обвинению в троцкистской пропаганде еще и обвинения в подготовке террористических актов и некоторых контрреволюционных преступлениях, хотя основания в деле не приводились. Дело заслушали 13.07.1937 г., по нему был вынесен обвинительный приговор, в тот же день отца расстреляли. Обо всем этом я узнал гораздо позже. Маме сказали, что приговор отцу – 10 лет заключения без права переписки. Она хотела передать ему тёплую одежду и не могла понять, почему в этом отказывали. Я не сомневался, что арест отца – ошибка, которая обязательно будет исправлена. Личная причастность Сталина к трагической судьбе моего отца тогда казалось мне совершенно невозможной.
После реабилитации отца в 1955 году нам сообщили, что в деле фигурировала только «троцкистская деятельность», хотя остальные данные – высшая мера наказания, дата приведения приговора в исполнение – совпадали. О том, что звучали также обвинения в терроризме и контрреволюционной деятельности, я узнал позднее, когда документы того периода были рассекречены.
Мать исключили из партии «за недостаток бдительности». Это была самая мягкая из возможных формулировок, не предполагавшая репрессий. Секретарь парткома рекомендовал ей уехать в сельскую местность, где отсутствовала поголовная паспортизация. В деревне Карловка Полтавской области нас принял брат матери Яков Хащанский, для нас дядя Яша. Он был сельским фотографом. Наш приезд привлёк к нему внимание карательных органов, и его впоследствии арестовали. Мы снова вернулись в Киев, поскольку тот же секретарь парткома сообщил маме, что можно приехать. Из трёх комнат нашей бывшей квартиры нам оставили одну, самую маленькую. Маме не разрешили вернуться на кафедру, но разрешили работать в качестве заведующей химическим отделом фундаментальной библиотеки КГУ, но она ещё подрабатывала в читальном зале, дома почти не бывала.
С четырех лет я свободно читал. Моей первой книгой была «Книга джунглей» Р.Киплинга, второй – роман «Овод» Э.Л.Войнич. Теперь я постоянно приходил в отдел гуманитарных факультетов, где был прекрасный выбор художественной литературы, подставлял к стеллажам стремянку, выбирал книги и читал до конца рабочего дня. Так получилось, что совсем не детские произведения Пушкина, Лермонтова, Чехова, Бальзака, Золя, Мопассана я прочитал уже в 4 классе…
– Как для Вашей семьи началась Великая Отечественная война?
– Проснувшись ночью 22 июня 1941 года от взрывов, я был уверен, что это очередная учебная тревога, только утром понял: началась война. На крыше дежурили жильцы, спасая дом от зажигательных бомб. Большими щипцами они хватали зажигательные бомбы и бросали их в ящики с песком. Впоследствии мы, мальчишки моего возраста и чуть постарше, которым полагалось прятаться в бомбоубежище, тоже раздобыли щипцы и стали им помогать. Днём налёты были очень редкими, все обсуждали, сколько времени понадобится Красной Армии, чтобы взять Берлин.
Потом вокруг Киева стали рыть окопы. Однажды наша мудрая мама вошла в комнату и сказала: «Мы сейчас уезжаем». Раньше артиллерия стреляла только с запада, а теперь ее стало слышно с юга и с севера, город окружают. Мама собрала целый чемодан новых простыней, чтобы обменивать их в дальнейшем на продукты. Мне разрешила взять одну книгу, я выбрал «Овода». На вокзале выяснилось, что пассажирское железнодорожное сообщение прекращено. Мама, которая имела опыт гражданской войны, не растерялась, вышла на пути и стала искать товарный эшелон, идущий на восток. Она выбрала эшелон с разбитой автомобильной техникой, которую везли в ремонт, и мы взобрались на платформу с огромным «Студебеккером»: его кабина была практически не повреждена, на сиденьях могли расположиться три человека, сверху откидывалась койка. По мере движения эшелона к нему присоединялось все больше людей. Так доехали до Нежина, где у мамы были знакомые. Мы видели, как бомбят и обстреливают с самолётов другие эшелоны, как горят целые составы, но нас не тронула ни одна пуля. Позже я полушутя говорил, что Господь хранил меня для будущей исследовательской деятельности. Это была серьёзная причина, ибо, как сказано в «Книге проповедника»: «Я – проповедник, сын Давидов, царь в Израиле. Я исследовал своей мудростью все вещи, ибо это тяжёлое занятие завещал Господь Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём». В будущем я постарался оправдать оказанное мне доверие…
Долго задерживаться в Нежине было опасно, мы добрались до Харькова, где влились в общий поток эвакуации. Эшелон с эвакуированными, среди которых преобладали евреи, довёз нас до Западного Казахстана, мы оказались в поселке Приуральном, находившемся на реке Урал, которая разделяет Россию и Казахстан, Европу и Азию. Домом, где нам выделили комнату, владели две сестры – Прасковья и Агриппина «Ореховны» (Арефьевны), глубоко верующие женщины. Агриппина совершала паломничество в Палестину под эгидой Русского палестинского общества, это были первые сведения, которые я получил о земле Израиля. Я попросил у сестер разрешения познакомиться со Священным Писанием. Это встретило удивление и одобрение, они нередко просили почитать вслух, за мной закрепилась репутация «світлої божої дитини».
Из-за отсутствия тёплой одежды в школу я пошёл только весной. Догнать класс не составило труда, вскоре ко мне даже стали обращаться за консультациями. В свободное время одноклассники просили что-нибудь им рассказать. Я пересказывал «Одиссею капитана Блада» Рафаэля Сабатини, «Всадника без головы» Майн Рида… Книжный запас в моей голове был бесконечен.
Мать, поскольку она была химиком, пригласили работать в тракторную бригаду учётчиком-заправщиком, выделили тарантас, саврасую кобылу Райку. Я в той же бригаде работал в качестве оператора прицепных орудий, или, по-простому, прицепщиком. Поскольку мама выезжала в поселок редко, бригадир быстро сообразил, что меня можно использовать и как курьера, и я часто ездил верхом на Райке в посёлок и обратно по его поручениям. К маме относились с огромным почтением: она никогда не делала ничего, что принесло бы ей выгоду, справедливо распределяла горючее, охотно объясняла, что такое октановое число и почему лигроин используется как топливо для самых мощных тракторов ЧТЗ и занимает среднее положение между керосином и бензином. У неё была привычка тщательно изучать все, чем она занималась, инструкции по тракторам она знала лучше тех, кто на них работал. Ее величали Давыдовной. Обращение по отчеству было принято по отношению к уважаемым людям.
Я не учился в школе от начала посевной до конца уборочной, что не сказывалось на получаемых мною отметках. Местная молодежь после целого трудового дня еще находила в себе силы развлекаться частушками и плясками. Я не мог принять в этом участие, потому что моя работа оканчивалась далеко за полночь, а иногда и перед рассветом.
Над всем нашим бытом стояла война. Радиоточки были во многих домах. Люди собирались в сельсовете или в правлении колхоза, жадно ловили сводки информбюро, слушали их с предельным вниманием. Почти в каждой семье кто-нибудь воевал… Зима 1942/43 г.г. случилась голодной, потому что часть урожая не успели убрать из-за ранних снегопадов, а местные партийные деятели не решились сообщить об этом, и поставки хлеба фронту были выполнены со всей засеянной площади. Жителям вместо хлеба выдавали вторые озадки. Когда хлеб очищают с помощью веялки, в одну сторону отходит зерно, в другую – примеси (озадки). Мы пекли из них лепёшки, норма была три штуки в день. От недоедания я перестал расти…
По весне пришла другая беда. Изголодавшиеся люди кинулись собирать из-под снега колоски. Испеченный из них хлеб казался обычным. Но вскоре появилась неизвестная местным врачам болезнь, которая начиналась как ангина, а затем сопровождалась горловым кровотечением и часто приводила к смерти. Население охватил ужас. Райсовет расценил ситуацию как чрезвычайную, в район организованно стали прибывать специалисты, они везли с собой аппаратуру, медикаменты. Первую группу возглавил Главный санитарный врач Советского Союза. После исследований, проведенных в Приуральном, септическая ангина была названа алиментарно-токсической алейкией, ибо она приводила в первую очередь к поражению костного мозга и нарушению кроветворения. В школе раньше времени прекратили занятия, и в ней развернули временный стационар. Целый дом заняли ученые-исследователи.
– Вы тогда уже знали, что хотите стать врачом?
– Я был уверен в этом с десяти лет. Во время эпидемии бригадир разрешил мне уезжать в поселок сразу после окончания официального рабочего дня. Я приходил во временный стационар, общался с докторами, и мне всегда находилась подсобная работа. Обилие ученых не возмещало недостатка рабочих рук. Узнав, что я собираюсь стать врачом, доктора стали называть меня коллегой и обучали меня работе, которую обычно выполняли медицинские сестры. Я делал инъекции, капельные вливания, и, что было особенно трудно, специальной ложечкой удалял у больных омертвевшие ткани… Я много беседовал с заведующим отделением, и он охотно делился со мной опытом. «Только не говори со мной о теории, – говорил он. – Я тебя работать учу». Нужно сказать, что все, кто был доставлен в стационар еще не в безнадежном состоянии, были спасены.
В Станиславе (ныне – Ивано-Франковск), где мы оказались после войны, я проработал три года лаборантом на кафедре общей и неорганической химии. Для получения аттестата о среднем образовании экстерном сдал экзамены за два года и в 1946 году стал студентом Станиславского медицинского института. Мне нравилось учиться. Я больше любил теоретические дисциплины, но понимал, что для практической работы необходимо «набивать руку».
В конце третьего курса я пришёл на заседание психиатрической секции научного студенческого общества, и это определило мою специализацию.
Помимо учебы я работал редактором стенгазеты института, трудился увлечённо, с энтузиазмом. Я не раз наблюдал, как студенты, у которых уже закончились занятия, не уходили из института, ожидая нового номера.
– А «дело врачей» как-то сказалось на Вашем образовательном процессе?
– В 1950 году появились первые слухи о «деле врачей». Мы были информированы лучше других, поскольку в нашей группе училась дочь командующего армией, которой эти сведения сообщал по секрету отец, а она потом пересказывала все мне, а может быть, и не только мне. В том же году, сразу после зимней сессии 4-го курса, корреспондент областной газеты пришла, чтобы взять у меня интервью в связи с моей деятельностью в качестве редактора стенгазеты. Наша стенгазета была признана лучшей в Станиславской области. Попутно она поинтересовалась тем, что мы, будущие медики, думаем о распространяющихся слухах по «делу врачей». Меня с детства приучили не допускать никаких компромиссов в идейных спорах. Я сказал, что люди, обвиняемые в намерении уничтожить партийных руководителей, имеют совершенно другую репутацию. Я уже тогда знал, что большинство из них (кроме профессора Виноградова – личного врача Сталина) евреи, и сказал, что все это напоминает антисемитскую акцию. Из нашего института стали массово увольняться профессора-евреи. Последним из них был талантливый хирург, профессор Фисанович, которого студенты любили за интересные лекции и умелую демонстрацию операций. Я сказал, что если «дело» станет официальным, это будет ошибкой ещё и потому, что студенты лишаются лучших педагогов-наставников.
На следующий день меня пригласил к себе секретарь комитета комсомола института – фронтовик, справедливый и умный человек, положил передо мной копию докладной, которую моя вчерашняя собеседница направила в обком партии, и спросил: «Ты это говорил или НЕ говорил?» Я имел возможность отказаться от своих слов, кроме того, мой приятель, присутствовавший при беседе, был готов подтвердить любую версию. Но моё мнение с предыдущего дня не изменилось. Я не понимал, почему я должен скрывать свою позицию. Мои родители ценили честность и решительность и в том же духе воспитали меня. Без всякого сомнения я подтвердил сказанное.
Вечером назначили общеинститутское комсомольское собрание, на которое приехал секретарь обкома партии. Он доложил ситуацию и предложил исключить меня из комсомола. Собрание неожиданно возразило: я был примерным комсомольцем, активистом, прекрасно учился. После дискуссии мне единогласным решением объявили строгий выговор с занесением в учётную карточку. Ночью после собрания мать не спала, ждала обыска, сожгла все книги, которые, с её точки зрения, могли указывать на мою неблагонадёжность, в том числе трёхтомную иллюстрированную историю еврейского народа…
На следующий день меня вызвали в помещение Первого отдела, где состоялась беседа с майором МГБ. Во время этой беседы я ясно понял, что при любой системе все-таки решающее значение имеет личность исполнителя. Майор позвонил кому-то и сказал: «Ерунда, никакого дела затевать не будем». Мне он порекомендовал отчислиться из института по семейным обстоятельствам и поступить на работу в эпидемический фонд. Я так и сделал, уже через месяц меня откомандировали в распоряжение медико-санитарного отдела управления МГБ. Окончив три курса, я имел право работать фельдшером, и в этом качестве был включен в состав медсанчасти, сопровождавшей эшелон с высылаемыми с Украины крестьянами. Несмотря на мои последующие дальние экспедиции, это была самая длинная командировка в моей жизни – от Ужгорода до Совгавани (Хабаровский край), от западной границы до восточной. Я должен был следить за тем, чтобы соблюдался режим остановок для «помывки» и прогулок, проверять полноту загрузки продуктов в котёл, раздавать детское питание. Я ответственно выполнял свою гуманитарную миссию. Поскольку хорошо говорил по-украински, высылаемые постепенно начали обсуждать со мной разные проблемы. Для этого было время: командировка продолжалась около трех месяцев. Заслуживает внимания один разговор, состоявшийся, когда эшелон миновал Москву, не заезжая в нее. Тогда один почтенный «газда» (крепкий хозяин) спросил, почему нас не повезли через Москву. Я ответил, что столичный железнодорожный узел сильно загружен, в нем стараются не создавать дополнительной нагрузки. Ноу моего собеседника была другая версия: «не хотят, чтобы батько Сталин знал, как высылают людей в Сибирь без суда и следствия». Я улыбнулся и ничего не сказал. Но мне было известно, что села, которые подозреваются в симпатии к Повстанческой армии ОУН, выселяются по личному распоряжению Сталина. Парадокс в том, что даже у этих людей руководитель страны пользовался непререкаемым доверием. Высланные постепенно сходили с эшелона на землях Сибири и Дальнего Востока, получали жилье и скот, вели обычную крестьянскую жизнь, раз в неделю отмечаясь в комендатуре и не имея права на выезд.
В сентябре 1950 года я уволился из эпидфонда с отличной характеристикой, где отмечались и мои заслуги в медсанчасти сопровождения, и с ходатайством о восстановлении в институте я отправился в Минздрав Украины. Не исключаю, что мой майор звонил туда, потому что встретили меня, как будто ждали, и сказали так: «В Станиславе Вам все равно не будет жизни, обком Вас не оставит в покое. Мы дадим Вам направление в Черновицкий медицинский институт». Именно там я познакомился с Ионом Дегеном (в студенческой среде Яней), фронтовиком-танкистом, умницей, человеком, который значительно повлиял на мою дальнейшую жизнь. Началась совсем другая глава моей биографии…
И все-таки мои высказывания в Станиславе еще дважды сказались на моей жизни. Мне поставили четверку на государственных экзаменах по диалектическому материализму, что лишало меня возможности получить диплом с отличием. А потом, уже после получения диплома, комиссия по распределению выпускников предоставила мне самое худшее, по их мнению, место – на Рудном Алтае (теперь Восточный Казахстан), где природные условия были не лучше, чем на Севере, а льготы отсутствовали. Это, с их точки зрения, было наказанием за мою строптивость. Так я оказался в Риддере (Лениногорске), где прошло почти десять счастливых лет моей жизни. Я принял приглашение переехать в Москву только потому, что моя мама Нехама Давыдовна и моя сестра к тому времени уже жили в Москве, и в московский Институт психиатрии поступила в ординатуру моя жена. Но именно в Риддере началось мое становление как специалиста, и окончательно сформировалась моя личность. Все обернулось к моему благу.