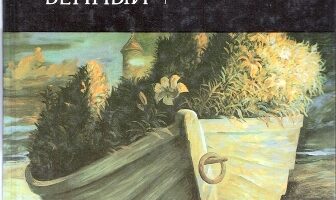Автор – Герольд Бельгер
Совершенно неожиданно наткнулся на уникальную книгу с двойным названием: по-русски – «Свет мой единственный», по-немецки – «Du mein einzig Licht». Уникальность издания (Калининградское книжное издательство, 1996) я узрел в том, что в нем представлено творчество кёнигсбергских (не калининградских, избави Бог!) поэтов XVII-XX веков, о многих из которых я до сих пор и представления не имел. «Почти все стихи переведены на русский язык впервые», сказано в аннотации. Составитель и переводчик – мне не знакомый Сэм Симкин. Предисловие к книге и биографические сведения по каждому поэту принадлежат Николаю Элерту.
Эту объёмную книгу я, по-видимому, буду читать и перечитывать долго и заинтересованно. Она того стоит. Возможно, при удобном случае, напишу о ней более подробно. А сегодня привлекло моё внимание двустишие Гертруды Мёллерин (1637-1705).
Вот как звучит оригинал:
— Was die ganze Welt erzählt,
Sind die beiden: Lieb und Geld.
Дословно:
Что правит миром всем –
Оба-два: любовь и деньги.
Звучит как афоризм. Ничего лишнего. Можно даже ещё больше «ужать»:
Правят миром любовь и деньги.
Но прелесть сентенции в неразрывных «этих оба-два» — die beiden.
Сентенция, должно быть, на все времена. Наверняка о том сказано ещё до Гертруды Мёллерин. Но она эту истину выразила наиболее ярко, ёмко и лапидарно.
Что сделал переводчик?
Он решил эту мысль пояснить, разжевать, дополнить, украсить, трактовать.
Получилось:
Две вещи правят миром, это вновь
Устами повторяется моими:
Святая, бескорыстная любовь
И та корысть, которой деньги имя.
То есть. Переводчик извёл в два раза больше словесного материала, нежели автор. Иначе говоря, разбавил сиропом, прибёг к затасканной рифме «вновь-любовь», придумал сомнительные определения к любви, польстился на банальность.
Ну, и зачем?
Это что, красиво? Лучше? Поэтичней? Ясней?
Не думаю.
Оригинал, бесспорно, чётче, стройней, энергичней, мускулистей, выразительней во всех отношениях.
Кстати, к такому методу перевода в прозе питает склонность русский прозаик Анатолий Ким. Он переводит с казахского (по подстрочникам) Ауэзова, Нурпеисова, Кекилбаева, Бокеева, Досжанова и всех разжевывает, украшает, комментирует, спонсирует, аргументирует, обогащает, расцвечивает, дополняет, латает, расписывает на свой салтык. И при этом постоянно доказывает, что только так и следует переводить.
Знаю: существует такая «метода». Исстари.
Знаю также, что не все на свете доказуемо. Еще Гегель говорил.
Знаю: этот давний спор абсолютно бесполезен.
Я лично не сторонник такого «перевода». Можно накручивать Бог весть что и очень уж далеко удалиться от аула оригинала.
Мой единственный критерий – оригинал. Ленин, кстати, говорил: «Принесите оригинал, и мы поспорим».
Все знают Иммануила Канта (1724-1804).
Или – точнее – наслышаны о нем.
Великий кенигсбержец, философ с мировым именем, родоначальник немецкой классической философии.
Оказывается, и он стихи писал. Но дошло до нас только одно стихотворение – «Февраль». Умное, версификационно отточенное, немного шуточное.
Вот оно в оригинале:
Ein jeder Tag hat seine Plage:
Hat nun der Monat dreißig Tage.
So ist die Rechnung klar.
Von dir kann man dann sicher sagen,
Daß man die kleinste Last getragen
In dir, du schöner Februar.
Не стану «буквалить», приводя русский подстрочник. Прошу читателя вглядеться в форму стиха, в рифмовку, в мелодику, в инструментовку. Всего шесть строк. Форма рифмовки – ааб ввб.
Изящно, с лёгкой лукавинкой. Словно экспромт.
Теперь обратите внимание на русский перевод Сэма Симкина:
Есть в каждом дне своя забота,
Их тридцать в месяце. Вот квота.
Так ясен счёт. Но очень жаль:
Февраль недодаёт нам что-то
И мы сбиваемся со счёта,
Утешить может нас едва ль,
Что легче бремя нашей ноши,
И этим нам других дороже –
Но всё ж прекрасен ты, февраль!
Если не отталкиваться от оригинала – все о’кей: и лёгкость, раскованность, размер, рифмовка, содержание, дух, настрой, дыхание – всё приемлемо, все созвучно, все «играет».
Но… на одну треть переводчик опять-таки удлинил стих. Опять что-то разжевал, пояснил, уточнил, объяснил, «отсебятил».
Видно, так посчитал нужным. Сам переводчик во вступительной статье объясняет это так: «Это вольные переводы, ибо во имя торжества смысла и русского звучания стиха мне приходилось иногда в той или иной степени отступить от «дословной» точности оригинала».
Не спорю. Вполне допустимо. Особенно при поэтическом переводе. Тут ведь так: где-то проиграешь, где-то выиграешь. К тому же объяснить все можно. Лишь бы во имя торжества смысла и русского звучания не удариться в излишнюю болтливость. А такая опасность часто подстерегает вольного стрелка.
Вчитываюсь в стихотворение «Семь жизней» поэта-антифашиста, священника Альбрехта Гёза (1908-1964).
Семь жизней, семь хотел бы я иметь.
Одну я целиком отдал бы духу.
Поэзии я б посвятил вторую.
Ещё одну – лесам, деревьям, звёздам,
Великому безмолвию. В другой –
Мне нагишом лежать у края моря,
Купаться в пене волн, бродить по дюнам.
Ещё в одной я б Моцарта все слушал,
Внимая буйной, радостной игре.
Для всех земных страданий, наконец,
Я прожил бы шестую.
Они б составили прекрасный спектр
С моей седьмой неповторимой жизнью,
Единственной!..
На разные мысли наводит стихотворение, не так ли?
Читатель поневоле начинает примеривать, прилаживать себя к этим семи проникновенным желаниям. Кто-то непременно вспомнит своё детство, родителей, речку, степь; кто-то поляну близ берёзового колка; кто-то – свои земные страдания, избежать которых никому не удавалось, ну, а в общем – каждому дорога своя неповторимая, единственная жизнь, какая бы она ни была.
И я ставлю себя мысленно на место автора. Ему неотступно мерещится родимый древний город Кёнигсберг, «милая Земландия с глазами полузаколдованных озёр» (см. его пронзительное стихотворение «Памяти утраченной родины. Кёнигсберг»); я, к примеру, не могу забыть, что в хрупком детском возрасте бы депортирован с взлелеянного в мечтах родного Поволжья; о родных степях и горах генетически грезит этнический казах в Турции, Китае, Франции, Германии и других странах-государствах.
Это естественно. Это понятно. Многим обитателям Земли выпала изломанная изуродованная судьба. И многим хотелось бы прожить семь жизней.
Стихотворение Альбрехта Гёза всколыхнуло мою душу.
Перевод, однако, показался мне несколько плоским, прямолинейным. И я обратился к оригиналу.
Sieben Leben möcht ich haben:
Eins dem Geiste ganz ergeben,
So dem Zeichen, so der Schrift.
Eins den Wäldern, den Gestirnen
Angelobt, dem großen Schweigen.
Nackt am Meer zu liegen eines,
Jetzt im weißen Schaum der Wellen,
Jetzt im Sand, im Dünengrase.
Eins für Mozart. Für die milden,
Für die wilden Spiele eines.
Und für alles Erdenherzleid
Eines ganz. Und ich, ich habe —
Sieben Leben möcht ich haben! –
Hab ein einzig Leben nur.
Ах, вон оно что! Всё хорошо, всё на месте. Только заключительный акцент слегка смещён. Перечислив все шесть вожделенных жизней, переводчик утверждает, что «они б составили прекрасный спектр с моей скромной, неповторимой жизнью, единственной». Так вот, этот прекрасный спектр здесь совсем неуместен, чужероден, «из другой оперы». Это очевидная отсебятина, неуклюжий комментарий, затычка. Автор заявляет, что он хотел бы иметь семь жизней, но – «Hab ein einzig Leben nur» – «но имеет лишь одну, единственную».
То есть, чуть-чуть иначе, проще, убедительней и трогательней. Да, хотел бы иметь семь жизней, но обладает лишь одной, единственной…
К сожалению.
И о том на склоне жизни может сказать каждый смертный.
Не иначе.
Ещё одна прелестная миниатюра. Её автор Курт Миколейт – псевдоним Тило (1872-1911). Миниатюра называется «Что остаётся» («Was übrig bleibt»).
Вот перевод:
Что остаётся от пустых покосов
Той юности, что всё ж в душе живёт?
Одна печаль. И множество вопросов.
Они как эхо на безлюдных плёсах,
Которое ответа не даёт.
Хороший, вечный вопрос: что остаётся от юности невозвратной? Чаще всего – увы! – одна печаль. Светлая, лёгкая, мимолётная, как дуновение. Как вздох. И, понятно, множество вопросов, на которые далёкое эхо ответа не даёт.
Конечно, я обратил внимание и на «пустых покосов юности», и на «безлюдные плёсы». Подумал: ай, наверняка переводческие, привнесённые детали, метафоры. Но уместные, яркие, запоминающиеся, поэтические, текстуально оправданные. Интересно, как там в оригинале.
Вот как:
Was bleibt von meinen schönen Jugendtagen,
Von ihrem Lachen, das ich so geliebt? –
Ein Hauch von Wehmut und ein Heer von Fragen,
Für die es, wenn die Stürme herbstlich klagen,
Ein Echo, aber keine Antwort gibt.
Так оно и есть: переводчик от себя привнёс выше указанные метафоры: «Von schönen Jugendtagen» – «от пустых покосов юности» (а впрочем, почему «пустые» покосы? Немного сомнительно) и «безлюдные плёсы» – «Wenn die Stürme herbstlich klagen» («Когда по-осеннему жалуются штормы»).
Но я ничуть не возражаю против такого переводческого своеволия. Очень даже в духе стиха, в стилистике настроя. И оригинал хорош: настраивает на раздумье и печаль. И перевод вполне адекватен и по содержанию, и по форме.
Тило выразил то, что эхом отзывается в душе каждого, кому вспоминается безвозвратно прошедшая юность.